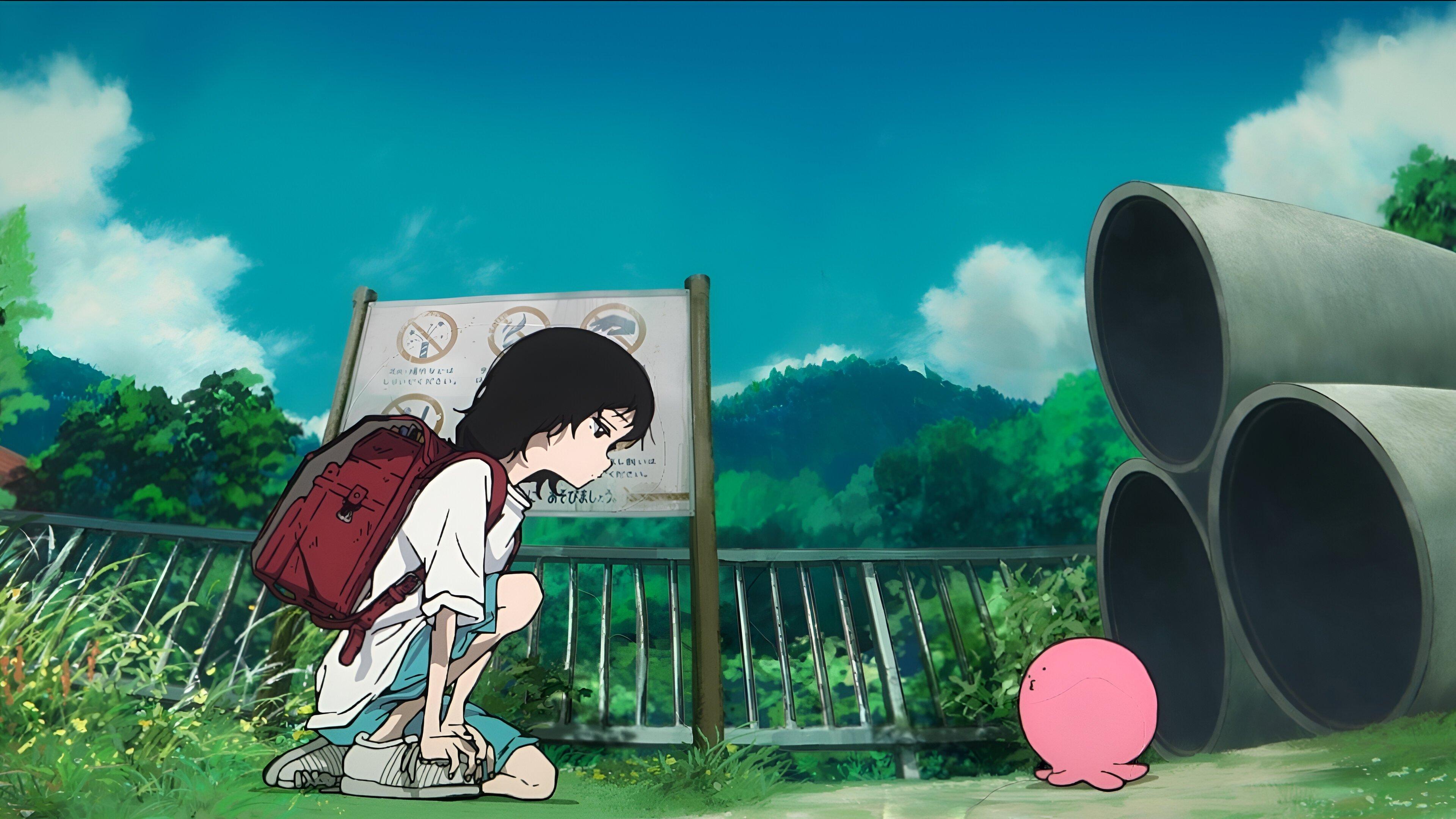"В присутствии клоуна" существенно отличается от всего творческого наследия Бергмана. Здесь к двум типичной для Бергмана двум составляющим, как то экзистенциальный ужас перед смертью, и психоаналитические экскурсы в детские травмы героев добавляется третья составляющая - которую условно можно назвать "Юмором висельника". Ранний и средний Бергман не позволяет себе и нотку ироничного, дабы не размельчать глубину трагедии, поздний Бергман включает Юмор висельника в свою парадигму и добивается небывалого эффекта, эффекта при котором все защитные перегородки и зрителя рассыпаются в прах и он оказывается один на один с бездной. Два душевно больных, один из которых объявляет себя великим мучеником свободы и … членом тайного общества по борьбе за свободу пукания, а затем перефразируя Сведенборга, доказывает что у Бога такое же лицо как и у него. Бог такой же как я, у него моё лицо, и мы видим измученное дряхлое лицо доцента Эгермана. Бергман, доселе не допускавший ни единой двусмысленности, вдруг идёт на откровенный эпатаж. С чего бы это?
Фильм сделал в театральной эстетике, что весьма усиливает воздействие. Мира вне помещений как бы не существует, и единственный кадр, где мы все таки оказываемся на улице, выглядит нереально и декорационно. Режиссёр умышленно делает свой мир ирреальным, искусственным, нарративным. Кроме этого, сложно не увидеть эволюцию темы смерти, которая, как уже отмечалось выше, незримо присутствует в большинстве картин шведского мастера. Образ смерти впервые появился в творчестве Бергмана в "Седьмой печати". Смерть предстает здесь в мрачном образе мужчины в чёрном капюшоне. Этот образ, несомненно, частично отражает внутренний отцовский образ в душе самого Бергмана, которому он всю жизнь сопротивлялся. Позднее смерть, в фильмах Бергмана, очень редко обозначался как таковая, распознавалась нами, к примеру, в образе старухи из "Стыда". В "Фанни и Александр" образ смерти и Бога фактически становиться тождественным, к чему Бергман очень долго подходил. И такой резкий переход в итоге! Клоун, в присутствии которого, обречён находиться каждый. Самое страшное в этом образе в том, что он вовсе не старается нас испугать, или на худой конец вызвать отвращение. Напротив, это в чём то завораживающий белый клоун, к тому же весьма эротичный. Даже само слово смерть ни разу не произноситься в фильме, хотя вряд ли навскидку удастся припомнить хотя бы пяток фильмов в той же степенью пропитанных флюидами смерти. Эта клоун несёт в себе воспоминания детства, и приторный аромат сахарной пудры, она умеренно эротична, но не тем агрессивным эротизмом с чертами роковой женщины, какими наделяют смерть в двадцать. Её эротизм скорее ласков и опекающий, не случайно белый цвет, выбранный Бергманом для этого образа, близок скорей к восточной символике смерти, где смертное ложе уподобляется чертогу брачному.
Но Окерблюм вовсе не хочет умирать и наблюдая как словно песок из пальцев по песчинке уходит жизнь, он сопротивляется до конца пытаясь следовать фаустовскому девизу: "Вначале было дело". Дело приходит к банкротству, на последний показ его эклектической трагедии абсурда приходит всего двенадцать человек (12 апостолов?), он теряет любовницу, друзей, положение и остаётся в вакууме, не в силах даже поверить в искренность верной Паулины. Вот где трагедия личности достигает таких глубин, о которых и не подозревали классики, трагедия, где возвышенное и банальное, сплетаются в один клубок, и разрывают душу на части, словно Синис путников.
Многие критики признают, что в отдельных фильмах Бергмана велико влияние идей Фрейда и Юнга. Фрейда, безусловно, он понял, ибо столь психологически продуманных персонажей я не встречал ни у одного режиссёра больше. Тогда как аналитическая психология Юнга зачастую предстаёт в фильмах Бергмана отрывочной, а потому, не до конца осознанной.
Фильм кончается самой глубокой точкой погружения. "Я тону, тону, и всё-таки тону", говорит Окерблюм. Это тот центр ада, глубже которого уже погружаться некуда, и дойдя до которого архитепически должно последовать восхождение. Но его не происходит. Возможно потому, что великий гений, всё ещё бессознательно борется со своим отцом и матерью, которых давно нет в живых. Бергман не может принять хоть какой либо шанс на воскресение, хотя бы символическое, потому что оно плотно связанно у него с христианством и детством, на возвращение в которое наложен запрет самим собой. А такие запреты обжалованию не подлежат.