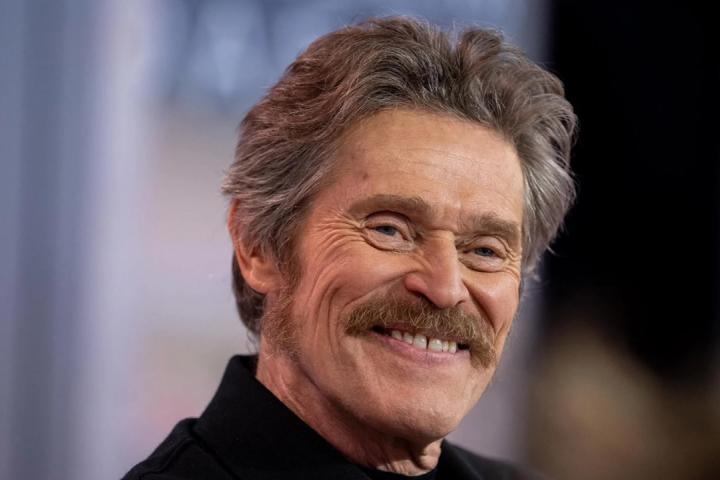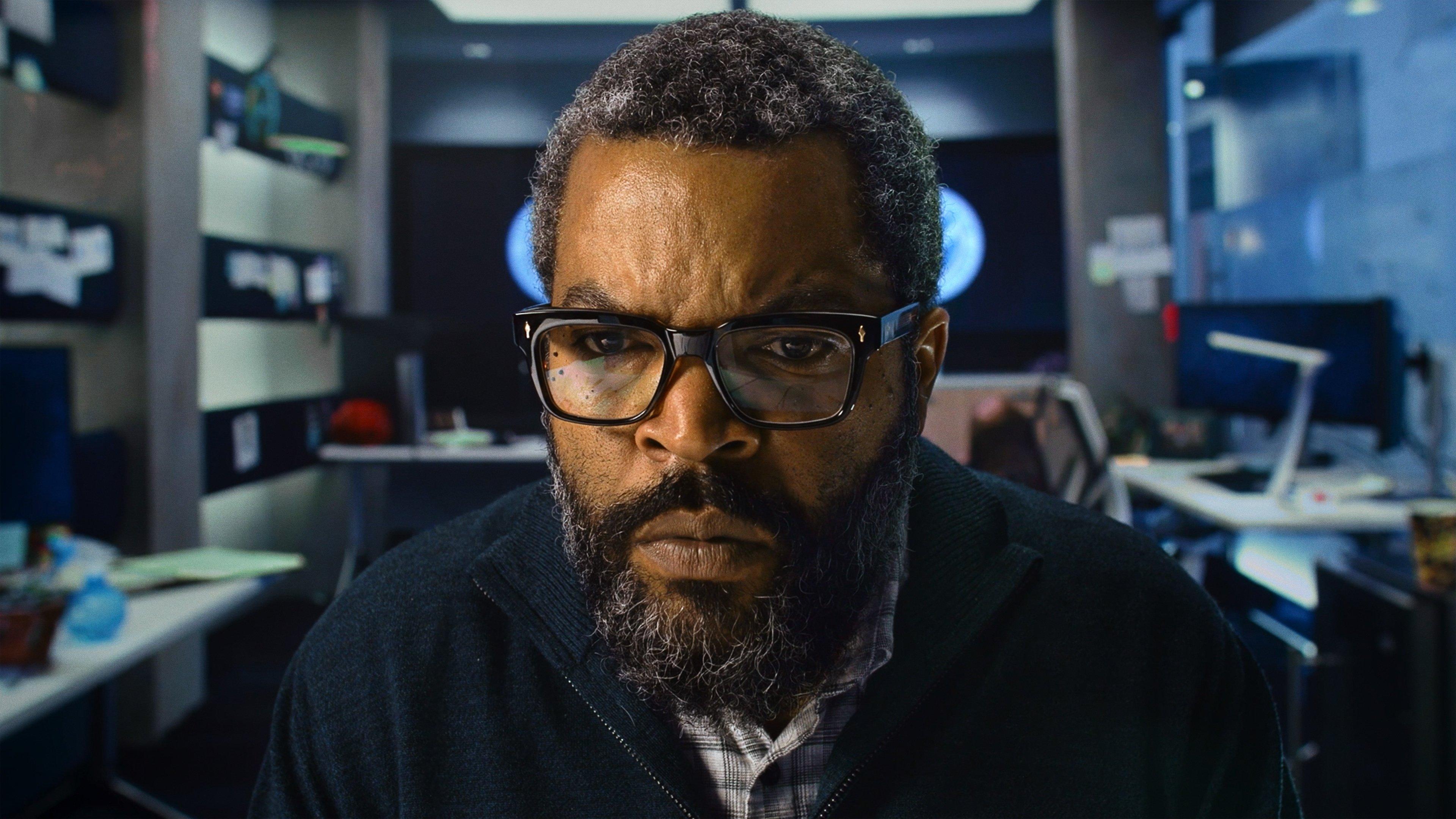Когда Ларс фон Триер был маленьким, он очень любил мюзиклы с Фредом Астером и Джином Келли, особенно «Поющих под дождём» (1951). Будущего провокатора успокаивала безопасная идиллическая реальность, где персонажи танцуют, поют, и всё подчинено определённой закономерности. Ему придавало уверенности то, с какой лёгкостью можно определить, где и когда начнётся музыкальный номер. Спустя много лет тревожный режиссёр решает снять свой собственный мюзикл — только с приставкой «анти».

Хотя в фильме формально присутствуют главные элементы – песни и танцы – эмоции он вызывает диаметрально противоположные от происходящего. Будто автор не понимает, как вообще нужно снимать мюзиклы. Не умеет, или же намеренно не хочет следовать сложившимся канонам? Триер — не единственный, кто вывернул жанр наизнанку, после его «Танцующей в темноте» появились и другие «странные» мюзиклы. Подобные работы выходят на экраны и по сей день — чего стоят прошлогодние эксперименты от Жака Одиара или Джошуа Оппенхаймера. Да и Каннский кинофестиваль этого года открылся весьма нетипичным мюзиклом «Уехать однажды» Амели Боннен. У зрителей явно есть запрос на «антимюзиклы». Но что это за зверь такой, и почему он на самом деле может стать спасательной шлюпкой и для самого жанра?
Откуда пришли антимюзиклы
Тот факт, что у классического мюзикла появилась своеобразная «гадкая сестра», весьма логичен, если посмотреть на историю развития его дальнего родственника –– оперы. Этот музыкальный жанр с колоссальной историей начал активно видоизменяться в ХХ веке. Тут хочется поспорить со штампом, что классическая опера умерла со смертью Пуччини. Она трансформировалась и начала отходить от стереотипных «оперных страстей», вбирая в себя все новые открытия в музыкальном языке. Бурное сценическое действие сменилось аскетизмом, а вместо запоминающихся мелодий со сцены начала звучать авангардная музыка, заставляющая внимательно вслушиваться в многослойную партитуру. Шедевры Верди и Бизе теперь сосуществуют с такими экспериментами, как опера-оратория Стравинского «Царь Эдип», «Воццеком» Берга с использованием в нём достижений «новой венской школы» или минималистичным «Эхнатоном» Филипа Гласса.

Сам мюзикл тоже не всегда был беззаботно радостным и не соответствовал высказываниям героини из «Танцующей в темноте» про то, что в нём всё заканчивается на мажорном аккорде. Как пример сразу вспоминается классика жанра — «Вестсайдская история» (1961), перенесшая сюжет «Ромео и Джульетты» в нью-йоркские трущобы. Или работы Боба Фосси «Кабаре» (1972) и «Весь этот джаз» (1979), в которых автор поднимает крайне сложные социальные и экзистенциальные темы, что идет наперекор устоявшимся взглядам на жанр.
Все эти произведения следуют главному принципу мюзикла — работа идет с эмоциями, а основное драматическое развитие происходит в песнях. Антимюзикл же предлагает переосмыслить этот подход и повзаимодействовать в первую очередь со смыслами. Меняется отношение даже к самим исполнениям номеров: в них персонажи могут не попадать в ноты, а вместо эффектных танцевальных эпизодов встречаются скорее неловкие попытки пуститься в пляс. Возникает ощущение, что жанр пытается пересобрать себя заново, чтобы освободится от правил, диктуемых музыкальным шоу.
Поиск границы между реальностью и мюзиклом
После попытки встряхнуть киноиндустрию своими манифестами Ларс фон Триер решил провести акцию спасения для мюзикла. Ради этого он «взял за основу самый жалкий синопсис, который вообще смог найти, и ударил в нём по всем клише»i. Сельма в исполнении Бьорк – эмигрантка, которая из-за прогрессирующей болезни (потери зрения) с головой уходит в мир своих фантазий. Певица стала полноценным соавтором картины. Ещё на съёмках «Рассекая волны» (1996) Триер постоянно слушал песню «It’s Oh So Quiet», а после просмотра клипа, выполненного как раз в духе мюзикла, предложил ей роль в фильме.
Видеоплеер загружается... Пожалуйста, подождите.
«Танцующая в темноте» построена на внутреннем противопоставлении реальности и иллюзий, границу между которыми ищет Триер. Повседневность режиссер фиксирует в манере «Догмы 95». Собственно, следуя одному из правил в манифесте, в качестве музыкального сопровождения используются лишь естественные звуки с натуры. В противовес этому существует воображаемая плоскость мюзикла, где все поют и танцуют по канонам жанра, а визуальный язык резко меняется. Первый подобный номер в фильме наступает примерно через полчаса после начала и застаёт зрителя врасплох. Более ста камер статично снимали вокальные номера Бьорк с разных точек. А уже потом Триер смонтировал сцены так, будто перед зрителем не танцевальный эпизод, а футбольный матч. Противоборство двух оптик заложено уже в самой музыке. Следуя заветам Дзиги Вертова из картины «Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931), мелодии симфонического оркестра рождаются из звуков рабочих станков или стука колёс на железной дороге. Перед зрителями не «правильный» мюзикл, а скорее «вывернутый наизнанку», лишенный лоска и внешней привлекательности.
Видеоплеер загружается... Пожалуйста, подождите.
Триер критикует сам жанр и его клише, которые ложной идеализацией ослепили главную героиню. При этом режиссёр оставляет различные отсылки к классическим мюзиклам. Сельма хочет сыграть в постановке спектакля «Звуки музыки», а собственному сыну дает имя в честь Джина Келли. Не говоря уже про участие в фильме таких звезд жанра, как Катрин Денёв и Джоэл Грей. В финале автор приходит к явно не жизнерадостному выводу: лакировка реальности приводит не к спасению через побег в другое измерение, а, наоборот, к уничтожению в настоящем мире.

Результат сотрудничества датского режиссера и исландской певицы принес им главную награду Каннского кинофестиваля, а ещё бесконечные споры и конфликты. Весь съёмочный процесс превратился в производственный ад. Бьорк настолько сильно прониклась своей героиней и категорически не соглашалась со многими решениями Триера, что была готова в любой момент покинуть проект, забрав весь написанный музыкальный материал. Впоследствии она выпустила альбом с саундтреком к фильму под названием “Selmasongs”.
Видеоплеер загружается... Пожалуйста, подождите.
Спустя 24 года, подобно Бьорк, певица Леди Гага снялась в антимюзикле «Джокер: безумие на двоих» (2024). Исполнительница принимала активное участие в работе над музыкой к картине и глубоко погрузилась в образ героини, о чем говорит её альбом “Harlequin”, куда вошли каверы песен из классических киномюзиклов и нескольких оригинальных композиций. В них прослеживается рефлексия исполнительницы о творческом пути, она, подобно своей Харли, потерялась в мире собственных иллюзий.

У второго «Джокера» и «Танцующей в темноте» оказалось немало общего. Герои Филлипса тоже убегают от реальности, но не в воображение, а скорее в безумие. Как и у Триера, мюзикл разворачивается в голове Артура Флека, а всё происходящее в его фантазиях можно назвать «мюзиклом из психушки». Заключённого изначально направляют на музыкальную терапию, чтобы занятие вокалом помогло восстановить целостность героя, но выходит наоборот. Музыка ещё сильнее расщепляет личность персонажа. Харли и Джокер поют на фоне невзрачных декораций, за исключением нескольких ярких музыкальных номеров, стилизованных под шоу 1960-х, так как в них действие переносится полностью в фантазию больного героя. Другие песни звучат в пространстве мрачной тюрьмы, иллюстрируя, как воображаемая вселенная разбивается о действительность. Артура Флека, как и Сельму, музыкальные миры не спасают от серой реальности, уничтожившей их двоих.
Побег в иную вселенную
По-другому использует антимюзикл Леос Каракс в своем проекте «Аннетт» (2021), созданном совместно с культовыми экспериментаторами в мире музыки – группой Sparks. Авторами идеи и сценария выступили братья Маэл, они же и обратились к французскому режиссёру в 2013 году. Уже в открывающей песне все участники действия восклицают: «Ну где же сцена?». А её и не будет. Каракс и музыканты удаляют из мюзикла его центральный элемент – шоу, но таким образом добиваются реалистичности собственного мира. Во вселенной фильма герои поют в любой ситуации, без сопровождения танцами, местами откровенно фальшивя. Причем каждый поёт в меру своих возможностей, а если не выходит, то персонажи активно используют речитативы, как пианист-дирижер в исполнении Саймона Хелберга. Вокальные данные не так важны, главное, чтобы песни звучали максимально естественно. В итоге получилась особенная мрачная сказка, сотканная из песен, желаний нарушать устоявшиеся табу жанра и метафорических образов.
Видеоплеер загружается... Пожалуйста, подождите.
Если у Каракса главенствует именно музыка, то антиподом ему можно назвать эксперимент Гая Мэддина, проведённый в «Самой грустной музыке в мире» (2003), к которой термин «антимюзикл» нужно применять с выделенным словом «анти». Сюжет картины крутится вокруг конкурса, где Изабелла Росселлини ищет самую печальную мелодию из существующих. Однако чаще героям не удаётся исполнить свои вокальные номера от начала до конца или сделать это в более привычном понимании. Во время музыкальных соревнований выступления конкурсантов совмещаются с комментариями ведущих, явно отвлекающих от музыки, или же прерываются через короткое время. Будто режиссёр создаёт мюзикл, главной части которого – песням и танцевальным номерам – не нашлось места. Или же они показаны в абсолютно безумной и своеобразной манере. Картина с головой уходит в ирреальный мир с атмосферой киномюзиклов 1930-х. «Самая грустная музыка в мире» появилась на свет с меланхолией и ностальгией по прошлому, а благодаря особому авторскому сюрреалистичному стилю Мэддина происходящее скорее превращается в сон самого кинематографа. При максимальном нарушении жанровых канонов, фильм, наоборот, обостряет идейную составляющую мюзикла – полный побег от реальности в мир грёз, сотканный из различных аллюзий на классику кино.
Видеоплеер загружается... Пожалуйста, подождите.
Жанровые мутанты
Антимюзикл может стать своеобразной лабораторией для скрещивания различных жанров. К примеру, что будет, если соединить мюзикл и диаметрально противоположный ему жанр – ужас? Существуют мюзиклы, написанные на хоррор-сюжеты и потом получившие киноадаптацию, как «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007) или «Генетическая опера» (2008). А есть и оригинальные причудливые киномюзиклы вроде хулиганской ленты «Анна и Апокалипсис» (2017) — в ней «Классный мюзикл» (2006) встречается с атакой зомби под канун Рождества.
Видеоплеер загружается... Пожалуйста, подождите.
Ещё дальше пошел Такаси Миике в «Счастье семьи Катакури» (2001), создав безумный сплав из всевозможных противоположностей. Сама история про отель, в котором гости не переживают и ночи, а семья, владеющая роковым заведением, пытается всеми силами скрыть постоянно появляющиеся трупы, подается как комедийный фарс. Параллельно действие разбавляется различными музыкальными номерами, умножающими абсурдность происходящего. В середине фильма герои разрушают четвёртую стену, предлагая зрителю петь с ними, и последующий номер превращается в караоке. Повышает градус безумия и визуальный язык с резким монтажом, который выбивает даже больше, чем ожившие зомби на подтанцовке. Ко всему прочему прибавьте внезапные вставки, выполненные с помощью пластилиновой анимации. Получается странный жанровый гибрид, в котором режиссёр проверяет, какую степень абсурдности сможет выдержать его кинополотно.

Особняком в таких экспериментах стоит творчество тайваньского режиссера Цая Минляна. Начиная с фильма «Дыра» (1998), где автор скрестил депрессивные будни героини в ветхой квартирке, снятые с характерным азиатским минимализмом, и внезапные музыкальные вставки, в которых девушка поёт и танцует популярные песни 1950-х годов в кабацких жанрах калипсо и рок-н-ролла. Однако исполняет их она в замкнутом пространстве лестничной клетки. Так режиссёр визуализирует метафору, что побег в мир фантазий из будничной тайваньской рутины оказывается бегом по кругу. А настоящее спасение он видит в сквозной метафоре дыры – это портал в иное измерение или же аллюзия на более кардинальные перемены в жизни. Гораздо радикальнее Минлян действует в своём «Капризном облаке» (2005), где соединяет порно и экзистенциальную драму о любви с весёлыми музыкальными вставками по образцу мюзик-холла. И если большую часть фильма его герои молчаливы, то в моменты странного мюзикла они поют в самых безумных образах. При этом тут такое сочетание расшатывает и перемешивает границы между разными жанрами, создавая причудливого и капризного мутанта, лишённого сентиментальности. И цинично очищающего зрительский взгляд от липкой, как арбузный сок, иллюзии.
Антимюзикл как «парфе незнания»
Полин Кейл ругала Жака Деми и его «Девушек из Рошфора» (1967) так: «одарённый француз, который обожает американские мюзиклы, но не понимает их конвенций». Этой фразой можно охарактеризовать создателей антимюзикла. Словно режиссёры с нуля пытаются собрать пазл с каким-нибудь известным изображением, но намеренно вставляют детали не в правильные места. Как Триер, с детства любивший этот жанр и прекрасно знакомый с материалом, решил заняться его деконструкцией. Он подобно герою своего последнего фильма заворожённо смотрит на привычный мюзикл через негатив. Так что акция спасения, начатая датским провокатором двадцать пять лет назад, продолжает вдохновлять режиссёров ломать привычные каноны жанра, выкладывая слой за слоем разнообразные отступления от устоявшихся правил.

Другой же американский критик назвал классический мюзикл Винсента Миннелли «Театральный фургон» (1953) «парфе знания». По мере того, как киножанр стал покидать пределы Соединённых Штатов, в самых разных уголках света смельчаки стали готовить свои необычные авторские деликатесы, состоящие из неловких танцев, фальшивых нот и хулиганских экспериментов. Чтобы распробовать их, нужно обладать особым вкусом — но количество желающих сделать это растёт с каждым годом.